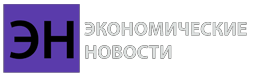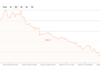Фото: Facebook / Конгрес культури
Борис Филоненко
Ксения Билаш: Давайте начнем с истории про две концепции. Как получилось, что в кураторском конкурсе победили сразу две заявки, и как вам удалось потом слить их воедино?
Мне кажется, что изначально это была не совсем додуманная идея. Был open-call кураторов, на который мы подавали текст концепции выставки. И было известно, что кураторов должно быть трое – но не все подавались группами, часто подавались поодиночке. Можно представить ситуацию, в которой за одним столом встречаются три куратора с тремя готовыми концепциями и начинают решать, что с ними делать.
К.Б.: Это в статуте конкурса прописано, что должно быть три куратора?
Дарья Бадьёр: И при этом они принимали заявки от одного человека?
Я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, что первый фестиваль задал некие правила игры, и из-за того, что это министерское событие, эти правила попали в документацию. В нашем случае, выиграли две концепции.
Моя называлась «Здається, я заходжу в наш сад», концепция Насти и Дарины (Анастасии Евсеевой и Дарины Скринник-Мыськи, со-кураторок биеннале – прим.) – «Зона (дис)комфорту». Наша работа началась в ноябре 2018 года с пятидневного кураторского интенсива, на котором мы встретились с кураторками первой выставки (Мария Ланько, Лизавета Герман, Катерина Филюк – прим.), с институцией-организатором (Харьковская муниципальная галерея – прим.) и с кураторами образовательной и детской программ Биеннале. За эти дни мы пришли к тому, что концепция будет одна, хотя это не было обязательным условием.
На своей лекции Катя Филюк, в частности, приводила пример выставки, в которой было шесть или восемь кураторов. Им не удалось достичь консенсуса, и в итоге они решили наклеивать возле каждой работы цветные кружочки, соответствующие выбору конкретного куратора. То есть, с подачи Кати обсуждался вопрос о том, нужно ли, находясь в ситуации нового знакомства, от двух концепций приходить к единой? Но мы пришли к тому, что, в принципе, наши концепции усиливают друг друга.
К.Б.: Каким образом?
За ними стояли разные истории, но обе были связаны с городским пространством, со стрит-артом. Моя концепция вообще называлась цитатой из проекта Данила Ревковского и Андрея Рачинского «Война надписей». А Настя и Дарина рефлексировали по поводу истории Гамлета Зиньковского: жители дома напротив мурала закрасили его работу, и это интерпретировалось как проявление цензуры. Но прямо сейчас эта история набирает новый оборот, потому что на этой же улице в работу Гамлета вмешался другой стрит-артист – коллаборация Злой Босх. Они «улучшили» работу с самокатом, а Гамлет стер их вмешательство – и это дало новую волну обсуждения.
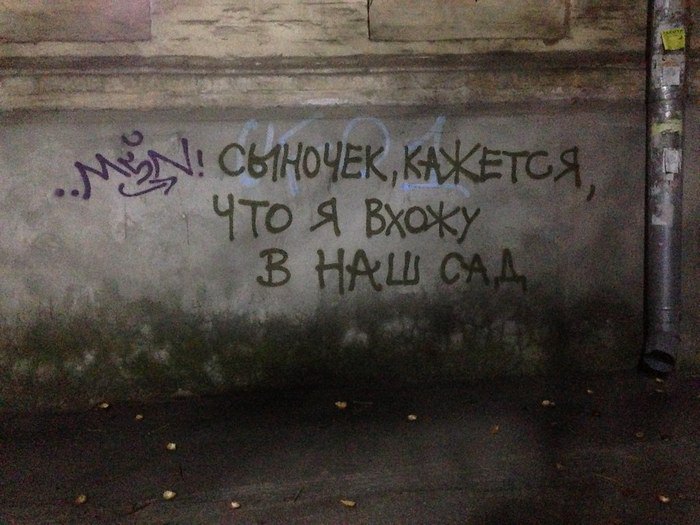
Фото: Предоставлено Борисом Филоненко
Д.Б.: Получается, что уже Гамлет монополизирует городское пространство.
Да, тут возникает вопрос о том, чьи стены, чьи заборы, и конечно, Гамлет сейчас не в лучшей ситуации. С моей точки зрения, он неправ. В общем, эта битва продолжается. А в случае с граффити Ревковского и Рачинского – эта история тоже не закончилась на том, что мы их процитировали. В проекте Дани и Андрея поэтические строки были разбросаны по городу, и человек мог прочитать их вместе только в галерее, когда они были уже фотодокументацией. Надписи довольно быстро закрашивали, и для художников было интересно следить за тем, как быстро они исчезают, и кто поймет, что это вообще арт-проект. Это было произведение искусства, разорванное в пространстве – и мне кажется, что тут есть соответствие с форматом выставки, который у нас сейчас есть, – Биеннале, которая разорвана между разными локациями.
К.Б.: И как вы в итоге соединяли концепции?
Совмещение было на уровне усиления одного другим. Те вопросы, которые были проговорены в концепции Дарины и Насти, расширили объем метафоры, на которую мы все согласились, – метафоры сада, взятую из работы Зигмунта Баумана “Liquid Times.” В ней он говорит о том, что есть противоречие между фигурой лесника и фигурой садовника. Что лесник – это человек, заботящийся о неких принципах всей вселенной, который убежден, что этот принцип есть, и что нужно поддерживать некий порядок, исправляя сбои.
А садовник – это другая ситуация, в которой понятно, что нет никакого единого центра, единого правила, но есть много постоянно меняющихся принципов и правил. В эти жидкие, текучие времена есть большая опасность растеряться, отчаяться и считать, что у тебя нет никаких шансов быть самостоятельным и действовать. Бауман говорит, что садовник все это понимает – но понимает также, чем он может помочь в создании устойчивых мест в этих потоках, брать на себя какие-то функции. Вот эту метафору мы перенесли на художника как садовника от культуры. Это словосочетание, от которого я очень хотел избавиться, но мы так и не смогли подобрать хороший синонимический ряд.

Фото: Накипело
Кураторы основного проекта 2-й Биеннале молодого искусства – Анастасия Евсеева, Дарина Скринник-Мыська и Борис Филоненко
Д.Б.: А почему вам оно не нравится?
Мне оно кажется каким-то рекламным, что-то в этой формулировке не так. Но она осталась, и почти попала в топ цитат. У нас есть три цитаты, которые мы используем во всех наших материалах. Главная – «Здається, я захожу в наш сад», «Це не руїна навкруги» и «Картина світу остаточно ламається». Первая – заимствованная. Текст концепции Биеннале молодого искусства был написан до того, как мы получили 400 заявок от художников и художниц. Эта концепция была написана из нашего критического взгляда на процессы в современном искусстве. Но в итоге она стала чем-то вроде сценария на будущее, который работает и против нас. Строчки с руиной, например, – и отель «Харьков», который мы взяли как самую большую локацию для выставки. Некоторые комнаты там были полностью завалены мусором. Мусор вывозился постепенно, и в одном из залов мы просто в какой-то день увидели, что у нас нет пола. (смеется)
К.Б. Мы видим, что Биеннале очень тесно вплетена в тело города, но Дарина и Настя – не харьковчанки, и даже никогда раньше не были в Харькове. Они привнесли какую-то условную львовскую оптику?
Я могу сказать, что наша работа втроем для меня лично была каким-то очень позитивным опытом, особенно на этапе отбора проектов. Не в последнюю очередь за счет того, что мы с Дариной и Настей из разных контекстов, потому что львовский и харьковский контексты не очень похожи.
В Биеннале, по-моему, больше всего художников из Киева, конечно, но Львов на втором месте. И подалось так много львовских художников, в том числе и потому, что Дарина и Настя много работали на то, чтобы активизировать Львов. Наша внутренняя коммуникация стала основой для коммуникации художественных сообществ.

Фото: Дарья Бадьер
Работа Сергея Радкевича
А по поводу изучения Харькова – для меня эта выставка тоже очень изменила собственное отношение к городу. Мое первое открытие было связано с тем, что Харьков – это пористый город. Кажется, что он такой огромный, с большими площадями, большими зданиями, большими и широкими проспектами, но когда мы искали помещение, – а это было много месяцев подряд, – ты заходишь внутрь всей этой архитектуры, и видишь, что она пустует. Как отель «Харьков» – там есть арендаторы на некоторых этажах, но кажется, что основная функция здания – это телевизионный экран и баннер на фасаде. Вот эта пористость города, его правила, по которым он сейчас работает, – это то, что заставило переключить оптику восприятия, сделало меня немного антропологом в собственной среде.
В работе с Дариной и Настей для меня была важна коммуникативная открытость, то, что мы не принимали решения единолично – и это дало, мне кажется, хороший результат. Я думаю, по отдельности мы бы сделали совсем другие выставки.
Д.Б.: Не мешала ли вам история с министерским конкурсом, для которого нужно отбирать работы. Это влияло на целостность кураторского высказывания?
Мы отобрали 65 проектов в финальный список, который нам очень сложно было сокращать. Сейчас мне кажется, что мы слишком много себе загадали. Нужно было брать 30 проектов и делать выставку иначе, потому что инфраструктурно, финансово Харьков не готов к такому масштабу.

Фото: Виктор Высочин
Работы Анны Ходьковой и Кристины Ярош
Насколько влиял тот материал, те заявки, что мы получили, на целостность выставки? Мне кажется, мы почти не заметили этого как проблемы. Я понимаю этот вопрос, но мы изначально решили, что не хотим сглаживать углы. Это означало несколько вещей, и про форму, и про содержание. Нам хотелось посмотреть, что будет, если художников, которые говорят о разных темах, но работают в похожих медиумах, пользуются одними материалами, поставить рядом? Что будет, если художников, которые, как мы знаем, враждуют друг с другом, сблизить в экспозиции? Если это будет оправдано не только нашим желанием сделать что-то провокационное, если можно сделать это работающим экспозиционным решением, – мы решили от этого не отказываться. И по этой логике мы искали разные пары, группы, содержательные и формальные. Таким образом, мы решили, что в ЕрмиловЦентре будут проекты, собранные не по принципу содержания. Тут не будет единой темы, а будет ответ на пространство, стремящееся к белому кубу, – и его нужно разрушить, максимально растворить его.
К.Б.: Например?
Вот есть работа Контантина Зоркина «Времыши», которая препятствует передвижению зрителя. Со стороны кажется, что тут вообще нельзя пройти. Но Костя сделал эту конструкцию так, что она даже нигде не опасна. Мы знали, что этот проект заблокирует путь передвижения. Нам хотелось, чтобы зрители, которые сюда придут, попали в новую ситуацию, а вставка была построена по принципу смены ощущений от проекта к проекту. Работы должны были поддерживать друг друга или противоречить, но в целом это отдельные зоны, которые работают по разным законам. Вход мы сделали так, что у зрителя нет возможности выбрать легкий путь.
Если бы здесь, например, висела живопись, то входящий начинал бы просмотр с нее. И этой возможности мы максимально не дали. Все эти столкновения с материалом работы, – гипс, дерево, будяки, – все это для нас было важно, чтобы белый куб работал не как комфортное пространство.

Фото: Андрей Ярыгин
Константин Зоркин, Времыши, 2019
А в отеле «Харьков»?
В отеле – наоборот. Мы знали, что это самая большая локация, и в ней мы выстроили нарратив в четырех частях, который соответствует четырем комнатам. Это экологические проекты, затем урбанистические, третий зал проблематизирует город – там проекты о местах заключения, о концлагерях, о полигонах для стрельбы, о миграции, о необходимости уезжать из города и возвращаться в город, который ты покинул. И четвертый зал был построен по принципу темы героя, из проектов, в которых явно выражен некий персонаж. От экологии – пространства столкновения с некими естественными условиями, через городское пространство и усложнение этого города, через процессы организации между людьми, мы пришли к субъекту, действующему лицу. Главная трудность в отеле – не создать нарратив, а интегрировать его в реальные условия.
В чем именно заключалась трудность?
В интеграции нарратива в помещение, о котором мы узнавали что-то новое каждый день. Мы работали с архитектурной студией «Форма» на макете, и после написания нарратива не знали, будут ли сложности со звуком, светом, с проекциями – можно ли воплотить этот нарратив в том пространстве, которое есть. В итоге эти проблемы решились, почти не затронув нарратив. Хотя, конечно, точечные перестановки были, – например, из-за истории со вторым залом, в котором не оказалось пола. Она могла изменить всю структуру выставки, увести зрителя в совсем другие залы, но так вышло, что этот недостаток сыграл на нас. Стал более явным переход от экологического зала, в котором нет ни одной стены, в котором ты гуляешь и видишь аквариумы, пейзажи и грибы – к пространству, в котором ты вынужден ходить по мостикам, опасаться ступить на бетон. Ты переходишь в пространство города, а оно работает совсем по-другому. Так что проблемы быстро превращались в какие-то важные экспозиционные решения.
Насколько я поняла, были и другие изменения, когда художник подавал на конкурс один проект – потом увидел локацию, и проект трансформировался во что-то другое?
Так, например, было с проектом Антона Саенко – он изначально подавал фотопроект. Но это художник, который не делает работу по эскизу. Он работает с контекстом, с пространством – приезжает и изучает место. В последнее время Антон работает с темой слепого пятна, которое, возникая в пространстве, сильно его меняет. Конкретно в этом проекте, который называется «Відлуння», Антон узнал, что в отеле остались фотообои, которые симулируют природу, отсылают к некоему уюту вне городского пространства. Он попросил их сохранить. Теперь это часть работы Антона – он собрал из гипсокартона и деревянных планок белый круглый объект, который мешает увидеть пейзаж, но в определенном положении акцентирует на нем внимание.

Фото: Андрей Ярыгин
Или другой пример: в день перед открытием мы полностью перестроили комнату Катерины Лесив с проектом «Колискова». Экспозиция была выстроена как большая комната с маленькими объектами, и тут было важно до самой мелкой детали сориентироваться в пространстве.
Это отразилось в каталоге?
Наш каталог – это своего рода антикаталог. Если принимать за стандарт каталог как отчет о выставке. Мы же хотели, чтобы каталог был похож на некоторое заявление о намерениях, сделанное художниками, которых мы отобрали. До того как, они попали в те или иные пространства.
Потому что вся эта история – о том, что такое Харьков, насколько он податлив, чтобы сделать большую выставку, и то, как художники подаются на конкурсы, фестивали, большие события, не зная абсолютно куда они попадут; и нам было важно сохранить вот это некое разъединение до момента выставки, которой еще нет. Потому что только выставка – тот момент, в котором они соберутся. Поэтому, например, в каталоге есть изначальный проект Даниила Ревковского и Андрея Рачинского, который потом изменился очень сильно. Изначально это был проект о вьетнамской общине Харькова, которая появилась здесь из-за войны. Сейчас это проект про военный посттравматический синдром – тема войны никуда не делась, главная линия осталась, но основания, на которых она стоится, изменились полностью.
Д.Б. Как вы думаете, готова ли вообще украинская арт-среда – и кураторы, и институции – к таким масштабным событиям, как биеннале? Этот год – это год четырех биеннале: Венецианская с ее сложной историей, Харьковская, Киевская, и история с Манифестой, куда Харьков тоже собирался подаваться. Как вы оцениваете, соразмерна ли украинская среда масштабам такого события, как биеннале?
И Венецианская и Харьковская биеннале, оба эти проекта – про желание быть большими. С «Мрией» я сейчас не буду комментировать, мне кажется, там все удалось. Не знаю, можно ли и вообще стоит ли измерять страдания в данном случае, но наша история, по параметрам несоразмерности и каких-то напряжений внутри проекта, оказалась похожей на историю Открытой группы. Существенное отличие, думаю, в том, что Венецианская биеннале – это международный проект, на фоне которого возникла группа, противостоявшая выбору жюри, препятствующая работе в уже в процессе.

Фото: Відкрита група
Фото из украинского павильона в Венеции
У нас совсем другая история, больше подвязанная под локальную ситуацию города, в котором институции находятся в состоянии конфликта между собой. И биеннале не стала тем фактором, который помирил эти институции (речь идет о ЕрмиловЦентре и Харьковской муниципальной галерее – прим.). Факт некоего соперничества, к сожалению, был виден даже в последние дни монтажа, и это совершенно некорректно по отношению ко всем. Но, к счастью, ничто не заканчивается институциями.
Самый масштабный уровень вопроса – это министерство как иницииатор этого конкурса. Оно, мне кажется, должно быть более чутким к тем проблемам, которые стоят за подобными решениями. Тут хорошо бы понимать, что Киев и другие города – это совершенно разные ситуации. И если перенести биеннале из Харькова куда-то дальше, не проведя работу над ошибками, произойдет такая же организационная катастрофа. Мы в кураторской группе планируем совершить шаги для того, чтобы кураторы следующих лет не оказались в такой ситуации, как мы.
Должны быть какие-то более ощутимые причины выбирать тот или иной город. Например, наличие локации – это чья проблема? Кто должен ее решить? Могут ли без наличия пространства работать кураторы? Художники? Я могу сказать, что, наверное, 35 из 45 проектов которые мы получили, отказывались сначала с нами работать, не понимая, в каком пространтве будет выставка. Это естественное требование. Насколько я знаю, – могу ошибаться, – в Арсенале бюджет биеннале был около 4 миллионов – при наличии пространства, команды и институции, которой в Украине многие могут позавидовать. У нас принимающая институция – без бюджета вообще. И мне кажется, это проблема, на которую министерство совсем не обратило внимания.

Фото: Дарья Бадьер
Ольга Кузюра, «Моя игра», 2019
Я счастлив, что мы выстроили некий механизм преемственности. Мы хотели, чтобы эта биеннале не была чем-то первым, а была продолжением какого-то процесса, и Маша, Катя и Лиза очень во многом держали с нами связь, консультировали нас, включились в кураторский интенсив. Эта связь была для нас очень важной. Тут тоже министерству стоит держать руку на пульсе, чтобы в какой-то момент эта биеннале не превратилась в выставку народного искусства, условно говоря.
Следующий уровень – внутренний. Готов ли город и готовы ли его институции? Должна быть ответственность того, что ты берешь на себя это все. И тут, мне кажется, ответ должен быть сопряжен с Манифестой 2022 – потому что те же люди, те же организаторы боролись за то, чтобы еще и Манифесту принять. Я просто не представляю себе – вот что бы происходило прямо сейчас, в ситуации, когда людей не хватает даже для поддержания жизни выставки после открытия?
Д.Б. А зачем они боролись за Манифесту?
Я мог бы злые шутки об этом шутить, но давайте так. По-хорошему надо было бы сказать: ребята, отлично, мы готовы, но в 2044 году. Мы вот сейчас краш-тест проведем на Биеннале молодого искусства, а потом поговорим. А Косово – отличный выбор (биеннале Манифеста в 2022 году пройдет не в Украине, а в Косово – прим.). Экономика Косово похуже, чем экономика Украины, и это еще одна история о том, что не в деньгах дело, а многое зависит от людей.
И третий уровень, о котором я не могу не сказать, – что эта выставка по итогу состоялась во многом благодаря включению людей, которые ничем не были нам обязаны, но восприняли этот проект как свой. Которые приходили в два часа ночи и предлагали какую-то помощь. Многие художники, студенты, которые работали ночами. Вот это общее включение в ситуацию катастрофы – для меня это самый сильный опыт, который вряд ли сможет что-то перевесить. Но это из разряда героизма.

Фото: Facebook / Бієнале молодого мистецтва
На открытии Биеннале молодого искусства в Харькове
Я там на открытии серьезно разозлил министерство, мне показалось, потому как не успел подготовиться к выступлению. «Вы что, не выучили сценарий?», – мне говорят. А я знал только, что два слова я обязательно скажу: «авгиевы» и «конюшни». Мне кажется, что это один из возможных способов описать то, чем мы тут занимались помимо выставки. Есть разные подвиги – забить вепря, осилить гидру, но есть и подвиг, который работает иначе – и тут начинается наша концепция: видеть, что в твоем саду коровы как-то долго и много гадили, и надо что-то с этим делать.